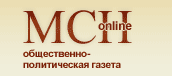Черная дыра Каджи–сая
Некогда процветающий поселок Каджи–Cай за последние 15 лет превратился в “мертвую зону”. Заколоченные дома, пустынные улицы, даже лая собак не слыхать.
В начале девяностых в Каджи–Сае проживали восемь тысяч человек, сегодня четыре тысячи. Люди разъехались, бросив дома и нехитрое хозяйство.
— А нам неплохо живется, — рассказывает баба Нюра. Она тридцать лет работала кассиром на заводе. Дом есть, слава Богу, дети помогают, деньги присылают. Они в России, в Орехово–Зуеве, живут, работают. Все зовут: приезжай да приезжай. А зачем? Здесь тихо, спокойно, уютно. Не люблю шум, вообще город не терплю. Вот в прошлом году соседка уехала. За один день все собрала и как сгинула. Даже дом не продала. Зато мне ее Буренка досталась. Золото, а не корова.
Но таких вот оптимистов, как баба Нюра, в поселке практически не осталось.
Когда–то Каджи–Сай считался одним из обеспеченных населенных пунктов в республике. То, что в столице было дефицитом, в местных магазинах можно было приобрести свободно.
Каджисайцы трудились на электротехническом заводе. Территория площадью в несколько футбольных полей некогда являла собой промышленный городок.
Строгая контрольно–пропускная система, огромное здание завода, где в цехах ни на минуту не смолкал рокот мощного оборудования. Старожилы говорят, что продукция электротехнического вполне могла конкурировать с японской.
Сейчас от былого остались одни воспоминания да бумажные, уже изрядно потрепанные и пожелтевшие, как и сам комплекс, снежинки на окнах заводского здания, “С Новым 1989 годом!” гласит надпись синей краской на грязном стекле.
Оставшиеся жители выживают как могут. Кто яблочками торгует на базаре в Караколе, кто гостиничный комплекс для туристов открыл на дому. Есть и такие, кто раскапывают “урановое кладбище” за территорией завода. Площадь хвостохранилища — 1 гектар. А погребенных промышленных отходов — 400 тысяч кубометров.
Так называемых старателей в Каджи–Сае немного. Приходят за наживой из соседних сел.
Этих людей не пугает радиационное облучение. Им нужны деньги. А за килограмм кремния можно выручить сто долларов.
— Мы пытаемся проводить работы по реабилитации хвостохранилища, — рассказывает Исламбек Темиралиев, представитель МЧС по Тонскому району Иссык–Кульской области, где и расположено “урановое кладбище”. — Но у нас средств на это, естественно, нет. В прошлом году вызвались было помочь США и Россия. Подсчитали мы, оказывается, на полную рекультивацию требуется до трех миллионов долларов. Мы уже начали частичные работы, только на четыреста тысяч сделали.
Плато, где покоятся урановые и кремниевые отходы, представляет собой пустынное поле, на котором как зеленые островки возвышаются густые кусты сочной, неправдоподобно зеленой травы.
— А это что? — замечают журналисты и указывают на навозные кучи.
— Местные скот сюда на выпас пригоняют, — невозмутимо отвечает Табылды Ишембаев, представитель районного подразделения гражданской обороны.
— Как сюда? — изумляемся. — Здесь же уровень радиации повышенный.
— Да нет, — успокаивает нас специалист, — всего–то 27 мкР/час.
Допустимая норма — 20 мкР/час, но в Каджи–Сае, где на отдельных участках хвостохранилища радиационный фон достигает 1500 мкР/час, 27 микрорентген считаются приемлемыми.
В прошлом году на хвостохранилище приезжали эксперты. Подтвердили, что “захоронения” находятся в аварийном состоянии. Но где взять деньги на их рекультивацию, не подсказали.
Между тем раскопки продолжаются. Как только старателей ни гоняли, они все равно возвращаются сюда.
— А что делать? — вопрошает Асанбек Белибеджанов, бывший инженер–электронщик. — Жить на что–то надо. Вот продам хоть сто граммов этого урана или кремния, в доме деньги появятся. Мои дети даже в школу не ходят, надеть нечего. И работы для меня нет.
Глава сельской управы Кубатбек Исаев обмолвился, что, мол, бывший электротехнический собираются преобразовывать в кварцевый. Опять же идея и деньги “заморские”, точнее, немецкие.
Кварц, изготовленный на заводе, планируют поставлять на токмакский стекольный завод. Однако из Токмака утвердительный ответ на заключение столь выгодной сделки пока не пришел.
— Если честно, я не верю, что завод когда–нибудь заработает, — продолжает Белибеджанов, — и потом, даже если так? Нам–то что за выгода? Все равно работать там будут свои же. Рука руку моет, известное дело.
Между тем господин Исаев пессимизм бывшего инженера не разделяет. Он уверен: как только завод заработает, поселок оживет, и работа для всех найдется.
Пока же каджисайцы выкарабкиваются из нищеты собственными силами. Раскопки продолжаются, чиновники все говорят, инвесторы обещают, а люди, зарабатывающие на поисках урана и кремния, тихо умирают. Но на их место приходят их же дети, и все повторяется.
Замкнутый круг Каджи–Сая — некогда богатого поселка на южном побережье Иссык–Куля.
Дарья МАЛЕВАНАЯ.
Фото Владимира ПИРОГОВА.
Адрес материала: //www.msn.kg/ru/news/16018/